Сомерсет Моэм
… Когда ты по настоящему чего-то желаешь – ты достигнешь этого
П. Коэльо
В основу исследования была положена диалогическая концепция культуры в понимании М. М. Бахтина. Она подразумевает, что освоение культурного наследия — это процесс диалога между культурами, обществами, людьми прошлого и сегодняшнего дня. В применении к музейному исследованию это означает открытость и многомерность прочтения музейных артефактов и текстов, возможность по-разному интерпретировать и делать значимым прошлое, учитывая разные современные контексты, смыслы и практики.
В этом отношении проект был направлен на решение проблемы «закрытого» музея, работающего преимущественно в режиме монолога. Мы искали выход из ситуации, когда тематика выставок задается не обществом, а музейными специалистами и часто не соответствует запросам посетителей, не связана с их жизнью и увлечениями, с волнующими их вопросами. Мы хотели изменить существующее положение, когда взрослая аудитория не воспринимает исторический музей как место смысла и за со-бытием чаще идет на спектакль, в кино или на концерт, а не в музей.
Чтобы решить эту проблему, необходимо было построить своеобразный мост между прошлым и настоящим, найти в культурном наследии те аспекты, которые значимы и интересны для настоящего.
Мы не хотели делать выставку, посвященную эволюции туризма на Урале или истории поездок в те или иные страны. Она была бы интересна музейным специалистам и узкому кругу интересующихся этой тематикой. Нам было не важно, происходили эти путешествия пятьсот или пять лет назад. Страсть открывать мир, ощущение дороги не имеют временны́х границ.
Мы хотели понять, как наши коллекции и материалы могут ответить на запросы, потребности современного человека, хотели найти такую интерпретацию, которая окажется актуальной для путешественников сегодняшнего дня.
Отправной точкой стало исследование путешествий как некой культуры — как набора представлений, смыслов, эмоций, практик и стилей. Это позволяло представить историю путешествий не в прошедшем, а в текущем времени — как материал, интересный для сопоставления и осмысления личного туристского опыта. Итоговая выставка должна была прежде всего позволить посетителям понять самих себя, осознать собственные мысли и чувства, узнать, как можно путешествовать по-другому, и задуматься о путешествии как искусстве. Это означало, что посетитель мог открыть для себя музей не только как место знания, но и смысла.
Нам было важно сделать музей местом, где могут начинаться путешествия.
Детальная версия
В формулировке цели нашего проекта фигурирует «актуальная для общества интерпретация музейной коллекции». Для нас это понятие аналогично «актуализации наследия». Последнее имеет свое определение в словаре: «Актуализация наследия — деятельность, направленная на сохранение и включение культурного и природного наследия в современную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации» [1].
Для нас такая формулировка является вполне приемлемой, хоть и недостаточно полной и операционной, то есть не дающей инструментов и критериев, позволяющих эту актуализацию осуществлять. Исходя из данного определения, прежде чем приступать к исследованию, направленному на включение наследия в современную культуру, мы должны ответить на два вопроса:
1) Как активизировать социокультурные роли объектов наследия (в нашем случае — музейных предметов)?
2) Какая интерпретация является актуализацией?
Из первого следует, что социокультурные роли наследия в современной ситуации неактивны и существуют какие-то инструменты и способы этой активизации.
Безусловно, не вся масса наследия требует активизации. Часть прошлого встроена в современную культуру благодаря живой традиции и «естественной» памяти, с ним еще существует связь, основанная на личном контексте, воспоминаниях, преемственности.
Однако сегодня такого «живого» наследия остается все меньше и меньше. Постиндустриальное общество выстраивает свои особые отношения с историей. Человек конца XX — начала XXI века все больше вырывается из истории, его преемственная связь с ней растворяется, и прошлое начинает все больше восприниматься как другая (чужая) страна [2].
Пьер Нора, глубоко исследовавший проблемы культурной памяти, описывает эту ситуацию следующим образом:
Мы больше не живем в нем, оно говорит с нами лишь через оставленные им следы — загадочные следы, смысла которых мы должны допытываться… У нас нет больше общей почвы с прошлым. Мы можем обрести его лишь через реконструкцию… [4].
[В результате связь с прошлым сегодня —] это уже не происхождение, а дешифровка того, что мы есть, в свете того, чем мы не являемся больше.
О памяти столько говорят только потому, что ее больше нет.
Если бы мы сами продолжали населять нашу память, нам было бы незачем посвящать ей особые места [5].
В такой ситуации институтам наследия требуется простроить мосты, которые могли бы связать прошлое и настоящее, встроить человека в историю, дать ему возможность почувствовать ценность и значимость прошлого для своей личной жизни.
Отметим, что в XX веке достаточно много было сделано для обоснования, зачем и как строить эти мосты.
Одними из первых еще в начале XX века эту проблему разрабатывали представители герменевтики, благодаря которым родилась концепция, что объективного прошлого не существует, а существуют разные способы его прочтения и интерпретации. Безусловно, такая позиция размывает, деконструирует понятие памятника, проблематизирует и персонализирует само отношение к историческому опыту, ставит вопрос о том, что прошлого как такового (которое можно объективно описать и проиллюстрировать в музейной экспозиции) нет.
Отдельно необходимо выделить исследования М. М. Бахтина, обосновавшего активный, диалогичный характер культурной памяти. Памяти, которая является не знанием и сохранением прошлого, а процессом его многократного прочтения, позволяющим каждый раз по-новому осмыслять и прошлое и настоящее. Таким образом, мы можем говорить о памяти-диалоге. Снимается М. М. Бахтиным и проблема культурного разрыва, которая ранее осмыслялась как потеря ключа к пониманию прошлого, потеря связи с ним. С точки зрения М. М. Бахтина, в области культуры именно «вненаходимость» — это самый могучий рычаг к пониманию [6].
При всей убедительности этих теорий музей часто застревает в прошлом, при создании выставок и экспозиций игнорирует современную культуру, жизненные реалии и потребности современного человека. Музею гораздо проще репрезентировать статичную картину существовавшей культуры, чем работать с культурой актуальной. Тем же, кто пытается это делать, приходится специально артикулировать, отстаивать свой подход.
Здесь можно привести слова директора Музея Ахматовой в Санкт-Петербурге Нины Ивановны Поповой:
Так, Марк Блок и другие представители Новой исторической школы (школы «Анналов»), значительно повлиявшей на историографию в XX веке, доказывал, что историк должен не строить для себя башню из слоновой кости, где он вдали от шума современности будет «объективно» изучать прошлое, а, напротив, интересоваться вопросами, волнующими современников, и задавать эти вопросы изучаемой эпохе, выступать в роли переводчика в диалоге прошлого и настоящего, чтобы помочь обществу лучше понять себя: «Есть только одна наука о людях во времени, наука, в которой надо непрестанно связывать изучение мертвых с изучением живых» [8].
В итоге многие книги представителей школы «Анналов» стали реакцией на актуальные проблемы общества, в котором они жили, и внесли определенный вклад в их обсуждение и решение.
Так, нашумевшая книга Э. Ле Руа Ладюри, в которой исследовалась южнофранцузская деревня Монтайю, была вызвана желанием отреагировать на стремительное исчезновение мира французского крестьянства и являлась ответом на движение активистов, поднимавших вопрос об автономности юга страны.
«Дебаты вокруг книги Филиппа Арьеса, посвященной детям и восприятию детства при Старом порядке, были в известной степени созвучны спорам о снижении до восемнадцати лет возрастного ценза для избирательного права (не отдаем ли мы решение судеб Франции в руки детей? начиная с какого возраста ребенка можно считать взрослым? и т. п.).
А в дискуссиях историков о контрацептивных практиках и сексуальной жизни французских средневековых крестьян можно было найти параллели к полемике левых и правых о свободной продаже противозачаточных пилюль» [9].
Практика показала, что такие «актуальные» исследования историков имеют большой спрос среди широкой аудитории. Книга «Монтайю, окситанская деревня», как и многие подобные ей, неожиданно стала бестселлером, историки начали вести циклы передач на телевидении и действительно влиять как минимум на оценку того, что происходило в актуальном социальном пространстве.
Такая востребованность, безусловно, должна быть интересна и музеям исторического профиля, которые могли бы, используя имеющийся у них потенциал, связывая коллективный опыт, хранителями которого они являются, с ситуациями сегодняшней жизни, стать «агентами влияния» и своеобразными «местами силы» современного общества.
Однако на практике исторические музеи часто выбирают иной путь, создавая экспозиции в жанре хронологического повествования и рассказа о событиях, исторических личностях, реформах прошлого. Простой способ обнаружить такой подход — задать вопрос «О чем эта выставка? В чем ваше основное сообщение аудитории?». Ответ на него вряд ли удастся получить. Этот же подход доминирует сегодня и в российской школе, формируя ожидания будущего музейного посетителя.
Такой путь (особенно если рассказ об истории интересен), безусловно, заслуживает права на существование, но имеет ограничения как с точки зрения восприятия аудиторией, так и относительно воздействия на нее:
1) этот подход направлен на аудиторию, имеющую сформированный интерес к какой-либо исторической теме или предметному ряду (формально под эту категорию подпадают все школьники, которым положено интересоваться, чтобы стать образованными и культурными людьми);
2) вследствие «снятости», оторванности прошлого от современности (как правило, это дополнительно подчеркивается хронологическим построением экспозиции), а также в результате отбора артефактов по принципу уникальности и аттрактивности, исторические выставки часто воспринимаются посетителями как кунсткамеры и кабинеты чудес, как собрание удивительных вещей, способных удивить, восхитить, развлечь и позабавить своей необычностью и экзотичностью;
3) выставка носит познавательный характер, как правило не претендуя на решение каких-либо современных, актуальных задач посетителя и общества (исключение составляют выставки патриотической направленности, которые зачастую свою функцию как раз и не исполняют).
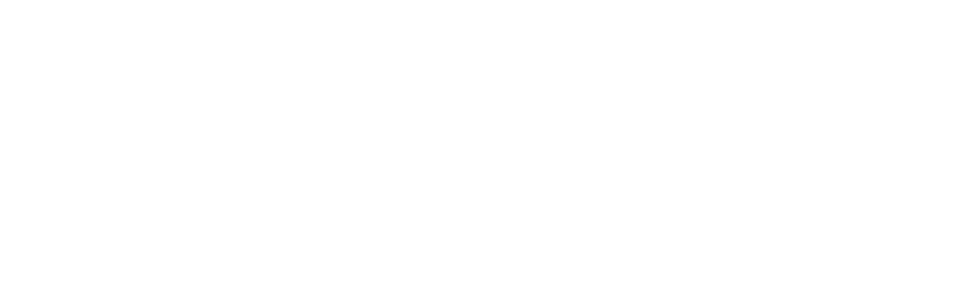
Здесь собственно мы подошли ко второму поставленному в начале этого раздела вопросу: какая интерпретация является актуализацией? И так же, как в случае с первым вопросом, здесь стоит начать с определений.
Согласно «Словарю актуальных музейных терминов»,
Характеризуя понятие «интерпретации» в практическом аспекте, Служба национальных парков (СНП) США определяет его как процедуру поиска тематики, продуктивной для диалога с наследием отдельных современных социальных групп и слоев. СНП предлагает руководствоваться простой интерпретационной формулой, которая выглядит следующим образом:
(ЗР + ЗА) / СМ = ВИ,
где ЗР — знание ресурсов, ЗА — знание аудитории, СМ — соответствующие методы, ВИ — возможности интерпретации.
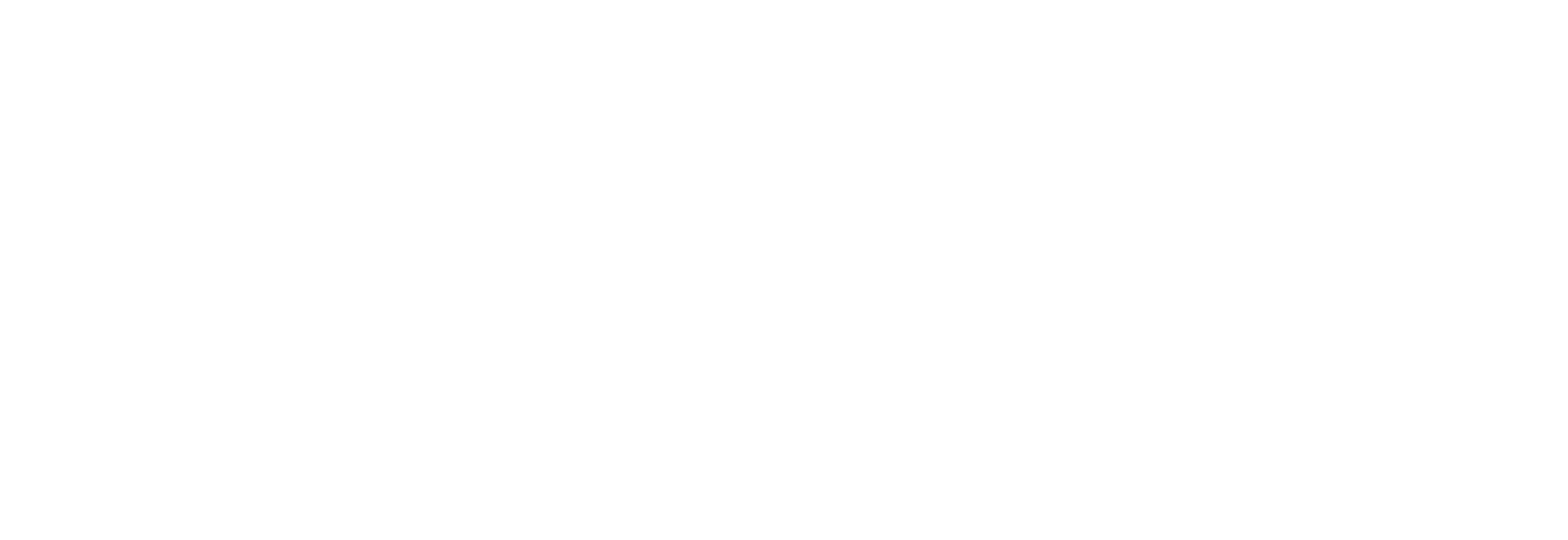
Исходя из представленной схемы, любая интерпретация должна начинаться с осмысления имеющихся ресурсов. Важно подчеркнуть, что под знанием Служба национальных парков подразумевает не столько информацию о конкретных фактах и параметрах объектов, сколько их возможные значения для посетителей. Каждый посетитель хочет свою историю, и важно понять, что памятник может рассказать разные истории («история о великой победе для других будет интересна как история о великом поражении») [12].
В этом случае диалогический подход может рассматриваться как базовый компонент реализации любой выставки. Например, из десяти критериев успешности выставочного проекта, предлагаемых Ниной Саймон (исполнительный директор в Музее искусств и истории в Макферсон-центре, Санта-Крус, штат Калифорния, США), три (выделены ниже курсивом) так или иначе связаны с вниманием к посетителю, к его исходной и конечной позициям в рамках посещения музея:
- Релевантность: как это соотносится с тем, что волнует людей?
- Эстетические критерии: это красиво?
- Технические: это сделано мастерски?
- Это инновационный проект?
- Интерпретация: могут ли люди это понять?
- Образовательный эффект: что люди могут узнать из него?
- Участие: могут ли люди быть вовлечены в проект и внести свой вклад?
- Исследовательский: порождает ли проект новые исследования или знания?
- Связи между людьми, структурами, сообществами: возникает ли какой-то неожиданный коммуникационный эффект?
- Мотивация: вдохновляет ли проект людей на действия? [13].
Таким образом, когда мы говорим об актуальной интерпретации, то имеем в виду такое истолкование прошлого, которое соотносится с актуальной жизнью музейного посетителя. Но как создать эту релевантность? Есть ли у нас какие-либо ориентиры для такой интерпретации?
Безусловно, такие ориентиры есть, и сформированы они в рамках исторической науки, антропологии, культурологии XX—XXI вв.еков.
Выделяются два направления, по которым может идти осмысление прошлого в контексте проблем и проектов современности. Первое — это исследования макросоциальной истории, представленные работами таких грандов, как Ф. Бродель, П. Стирнз, Э. Хобсбаум и др. В их работах изучается целая серия «больших» вопросов последней трети XX века: массовые социальные движения и насилие, социальные процессы исторической трансформации, «ментальные карты», экономические циклы, социальная стратификация, модернизация, символическая власть, конфликты и др.
При этом проблематика таких исследований во многом определяется актуальными социальными проблемами общества. Так, постсоциализм, глобализм, неоколониализм, новый миропорядок, религиозная мобилизация, новый характер миграции и маргинальности, массовая культура, ставшие актуальными в конце XX — начале XXI века, поставили перед историками новые задачи научного анализа связанных с ними явлений и процессов (демократии, империи, цивилизации, культуры, идентичности, гендера, массовых представлений) [14].
В целом можно отметить, что исследования на этом уровне — это выстраивание макроконтекста человеческой жизни. Современная социальная и личная реальность во многом задается ответами на такие метавопросы, как «Кто мы и что мы делаем?», «Как и почему мы такими стали?» и главное «Можем ли мы измениться?». Благодаря такому подходу вскрываются социальные, культурные и иные доминанты, матрицы нашей жизни.
Такие исследования в итоге дают возможность понять случайность или системность тех или иных элементов в нации, культуре, социуме, человеке, помогают нациям, городам, людям успокоиться, остановиться в метаниях или, наоборот, осмыслить себя, проснуться и начать меняться, дают важное для нас осознание и ощущение макроидентичности и детерминированности — национальной, политической, социальной, культурной, географической.
В этом отношении становится понятной тенденция, когда музеи начинают заниматься такими большими концептуальными историями, касающимися таких острых социальных проблем современности, как толерантность, мигранты, геноцид и агрессия, переживания исторических травм, развитие территорий и др.
В нашем случае таким макроуровнем стало развитие путешествий и туризма в контексте современной российской массовой культуры, в которой происходит перелом культурных практик, трансформация массового (быстрого) туризма и развитие культуры индивидуальных (глубоких) путешествий. В этой ситуации музей, обладая историческим масштабом, может «вскрыть», «проявить» происходящие процессы, показать их социальные и культурные истоки и последствия, а главное в диалоге с путешественниками современности обсудить варианты развития ситуации и формирования своей стратегии путешествий, самоидентификации в этом пространстве.
Второй путь актуальной интерпретации прошлого — это построение человекосоразмерной истории, позволяющее выйти на «вечные» вопросы человеческого бытия. Это направление имеет большую историографию, восходящую к работам целых научных направлений в виде исторической антропологии, микроистории, истории ментальности, истории повседневности, cultural studies, истории массовых представлений и «исторической памяти», устной истории, которые объединяют разные, но близкие в нашем контексте исследования:
- способа воспринимать мир и устраивать свою жизнь в нем в разные эпохи и в разных культурах,
- мотивов и повседневного поведения людей,
- социальных практик, самосознания, жизненного пути отдельных индивидов и целых семей вместе со всеми их представлениями и ценностями,
Исследования, благодаря которым была создана человекосоразмерная история, позволяющая узнать новое не только о людях, живших много лет назад, но и о нас самих, о ситуациях и решениях, причинах ошибок, ментальных рамках, стратегиях, стилях, поведенческих практиках, ценностях и смыслах, задали другой способ самого понимания культуры прошлого как социального и личностного инструментария.
В этом контексте опыт прошлого может расширить опыт сегодняшнего дня и стать для нас применимым, используемым, прагматичным.
В музее, построенном на таком основании, артефакты прошлого становятся триггером для запуска саморефлексии и диалога о человеке, а экспозиция — зеркалом, в котором человек может по-новому увидеть себя и свое время.
В целом при таком подходе культуру прошлого можно рассматривать как резервуар значимого для современной жизни контента. Музей, выступающий хранителем уникального наследия, имеет все шансы превратиться в «фабрику образов, смыслов, проектов» [15]. В этом отношении он обладает колоссальной конкурентоспособностью.
Применительно к нашему исследованию этот подход обусловил исследование путешествий как некой культуры — как набора представлений, привычек, ментальных рамок, смыслов, ощущений, принципов и практик. Для выхода на этот уровень мы, с одной стороны, использовали существующие работы в области социологии, культурологии, психологии, истории туризма, а с другой — обратились к путешественникам Екатеринбурга, что позволило акцентировать наиболее значимые для них вопросы, темы, собрать личные истории.
Все это дало возможность интерпретировать музейную коллекцию и историю путешествий не в прошедшем, а в текущем времени — как материал, интересный для сопоставления и осмысления личного туристского опыта. Итоговая выставка должна была прежде всего позволить посетителям понять самих себя, осознать собственные ощущения и опыт, узнать, как можно путешествовать по-другому, и задуматься о путешествии как искусстве. Это означало, что посетитель мог открыть для себя музей не только как место знания, но и смысла, место, в котором могут начинаться путешествия.
1. Замысел
2. Инструментарий
3. Большое путешествие
3.1. Участие сообщества
3.2. Экспонаты глазами зрителей
3.3. Навстречу людям
3.4. Собираем артефакты и истории
3.5. Зрители как соавторы текстов экспозиции
3.6. Совместное оформление выставки
3.7. Тестирование
3.8. Зоны участия на выставке
3.9. Каталог выставки в формате 2.0
3.10. Мотивация участников
4. Исследование мира путешествий
4.1. Истоки геобиографии
4.2. Дороги, которые мы выбираем
4.3. Решиться на путешествие
4.4. Открыть мир
4.5. Вдохновить других
5. Восприятие
5.1 Результаты (социальный портрет посетителя выставки, уровень удовлетворенности посетителей, оценка посетителями инновационности, элементов выставочного проекта)
Послесловие и слова благодарности участникам проекта
